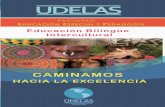La Muerte Poeta (Bilingüe)
description
Transcript of La Muerte Poeta (Bilingüe)
СМЕРТЬ ПОЭТА
Отмщенья, государь, отмщенья!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству
возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.[3]
Погиб поэт! — невольник чести, —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. К чему теперь рыданья,
10 Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? Веселитесь... он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
20 Увял торжественный венок.
Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. Издалёка,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока.
Смеясь, он дерзко презирал
30 Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы,
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..
И он убит — и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но
милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной
силой,
Сраженный, как и он,
безжалостной рукой.
Зачем от мирных нег и дружбы
простодушной
40 Вступил он в этот свет
завистливый и душный
Для сердца вольного и
пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам
ничтожным,
Зачем поверил он словам и
ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший
людей?..
И, прежний сняв венок, — они
венец терновый,
Увитый лаврами, надели на
него,
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело.
Отравлены его последние
мгновенья
50 Коварным шепотом
насмешливых невежд,
И умер он — с напрасной
жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых
надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.
А вы, надменные потомки
Известной подлостью
прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие
обломки
60 Игрою счастия обиженных
родов!
Вы, жадною толпой стоящие у
трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда — всё
молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники
разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает
наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к
злословью —
70 Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей
черной кровью
Поэта праведную кровь![4]
29 января — начало февраля
1837
Примечания
1. Перейти↑ Опубл. «Полярная звезда на 1856 г.». Лондон, 1856, кн. 2, без эпиграфа, под загл. «На смерть Пушкина» (дата выхода в свет альм. — 24 или 25 мая 1856 г.).
2. Перейти↑ Лермонтов М. Ю. Полное собрание стихотворений в 2 томах. — Л.: Советский писатель. Ленинградское отделение, 1989. — Т. 2. Стихотворения и поэмы. 1837—1841. — С. 7—9
3. Перейти↑ Вслед за Собр. соч. М. Ю. Лермонтова (Л., 1979, Т. 1), восстановившем старую традицию, эпиграф в наст. изд. присоединяется к тексту ст-ния. Эпиграф к «Смерти поэта» взят из трагедии французского драматурга Ж. Ротру «Венцеслав» (1648) в неопубликованном русском переводе А. А. Жандра (1789—1873). Высказывалось предположение, что эпиграф появился лишь на суде — для прикрытия острого политического смысла заключительных строк (см.: Боричевский И. Пушкин в борьбе с придворной аристократией // ЛН. 1948. Т. 45/46. С. 348; Андроников. С. 59—61). Однако такое допущение несостоятельно: как раз эпиграф вызвал особое негодование шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа. «Вступление к этому сочинению ‹т. е. эпиграф›, — писал он в докладной записке Николаю I от 19 или 20 февр. 1837 г., — дерзко, а конец — бесстыдное вольнодумство, более чем преступное» (Воспоминания. С. 393). И в высших кругах общества эпиграф был воспринят как наиболее криминальная часть текста.
4. Перейти↑ Основная часть «Смерти поэта» (ст. 1—56) была, вероятно, написана 28 янв. 1837 г. (дата в деле «О непозволительных стихах...»). Пушкин умер 29 янв., но слухи о его гибели распространялись в Петербурге накануне. В воскресенье 7 февр., после посещения Лермонтова его двоюродным братом — камер-юнкером, чиновником министерства иностранных дел Н. А. Столыпиным, — были написаны заключительные строки, начиная со слов «А вы, надменные потомки...». Сохранились свидетельства современников о том, что эти строки — ответ Лермонтова на спор со Столыпиным, разделявшим позицию великосветских кругов, которые, оправдывая поведение Дантеса и Геккерна, утверждали, что они «не подлежат ни законам, ни суду русскому» (Воспоминания. С. 390). В своем «объяснении» на суде С. А. Раевский стремился свести смысл заключительных строк к спору со Столыпиным о Дантесе и отвести внимание от их политического содержания: отвечают за гибель Пушкина высшие придворные круги, «жадною толпой стоящие у трона». За девять дней, отделяющих первые 56 строк от заключительной части, произошло много событий, и Лермонтов сумел полнее оценить политический смысл и масштаб национальной трагедии. Теперь он с полным основанием мог назвать высшую знать «наперсниками разврата». Лермонтов узнал о трусливой позиции правительства, распорядившегося тайно похоронить Пушкина, запретившего упоминать о его гибели в печати. По свидетельству П. П. Семенова-Тян-Шанского, Лермонтов побывал у гроба Пушкина в доме поэта на набережной Мойки (это могло быть только 29 янв.). Даже самые близкие друзья покойного до 10—11 февр. не знали о важнейших эпизодах его семейной драмы: оберегая репутацию Натальи Николаевны, Пушкин скрывал многие факты. Это выясняется из писем П. А. Вяземского и др. материалов (см.: Абрамович С. А. Письма П. А. Вяземского о гибели поэта. // ЛГ. 1987, 28 янв.). В события, предшествующие дуэли, автор «Смерти поэта», видимо, был посвящен лицами из пушкинского круга (возможно, В. Ф. Одоевским, А. И. Тургеневым), сослуживцами по лейб-гвардии гусарскому полку, среди которых было много знакомых Пушкина, а также доктором Н. Ф. Арендтом, посещавшим болевшего в это время Лермонтова. Особо следует сказать о поручике Иване Николаевиче Гончарове (брате Натальи Николаевны). Недавно опубликованное его письмо к брату («Лит. Россия». 1986, 21 нояб.) и сделанные Лермонтовым портретные зарисовки Гончарова 1836—1837 гг. (установлено А. Н. Марковым в 1986 г.), свидетельствуют о товарищеских отношениях между ними. Гончаров участвовал в попытке предотвращения дуэли, был в курсе аудиенции в Аничковом дворце 23 нояб. 1836 г.
"La muerte del poeta", de Mijaíl Lérmontov (Rusia,1814-1841) Murió el Poeta, esclavo del honor, por los vanos rumores difamado. Con el plomo en el pecho, sediento de venganza, cayó inclinando la orgullosa frente. Sucumbió el corazón ante el oprobio de mezquinas injurias. Haciendo frente a la opinión del mundo él solo, como siempre... fue vencido. ¡Muerto!... Decid, ¿por qué eleváis ahora un vano coro de alabanzas, de tardíos elogios? Se ha cumplido el designio de la suerte. ¿No habéis sido vosotros ya hace tiempo los que ibais a la caza de sus audaces, de sus libres dones; los que por divertiros atizasteis su fuego apenas escondido? ¿Entonces? ¡Alegraos!... No ha podido resistir vuestros últimos ultrajes. Como una llama se ha apagado su genio milagroso, como corona de lozanas flores. A sangre fría, su asesino ha descargado el golpe: su corazón está vacío, late sin alterarse, en su mano no tiembla la pistola. ¿Os extraña?... De lejos ha llegado a nosotros —igual que tantos fugitivos a la caza de honores, dignidades—, llevado de la mano de la suerte. Despectivo se burla de nuestra lengua y nuestros usos... ¡Respetad nuestras glorias, comprended este instante sangriento, sobre quién osa levantar la mano! Ha muerto, le ha encerrado la tumba; igual que su cantor desconocido, amable, ha sido presa de la ciega envidia; el cantor que el Poeta ha celebrado y que fue como él abatido por mano despiadada. ¿Por qué dejó aquel mundo de tranquilos placeres, de sincera amistad, para entrar en el círculo ambicioso que sofoca el espíritu, las ardientes pasiones?
¿Por qué tendió la mano a bajos detractores, por qué creyó en palabras, en juramentos falsos, él, que desde tan joven conocía a los hombres? Quitando su corona, le ciñeron la frente de laureles tejidos con espinas; sus puntas escondidas ensangrentaban su gloriosa frente... Sus últimos instantes fueron envenenados por infames rumores maldicentes. Murió con su sed de venganza no extinguida, con secreto despecho de traicionadas esperanzas... Se apagaron los ecos de sus mágicos cantos, no volverán a oírse: angosta, tenebrosa, es la morada del Poeta, y un sello para siempre ha cerrado sus labios. ¡Oh, vosotros, altivos descendientes de padres conocidos por su infamia, que con serviles pies hollasteis los vestigios de linajes heridos por la suerte con los juegos crueles del destino! ¡Vosotros, turba de ambiciosos que rodeáis el trono, verdugos de la gloria, la libertad y el genio! ¡Os halláis escondidos entre las sombras de la ley; ante vosotros callan los tribunales, la verdad! Pero hay también, malvados, un Tribunal divino, un Juez terrible, que os espera inaccesible al son del oro, que sabe desde siempre los pensamientos y las obras. Serán vanas entonces las calumnias, no os servirán de escudo. ¡Y vuestra sangre negra, toda, no bastará para lavar la sangre justa del Poeta!
Mijaíl Lérmontov, incluido en Poetas rusos del siglo XIX (Ediciones Rialp, Madrid, 1967, selec. y trad. de María Francisca de Castro Gil).